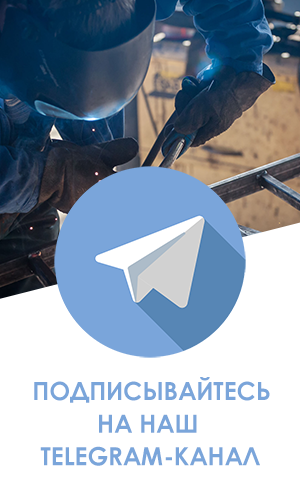Руководителя Департамента стратегического управления Госкорпорации «Росатом» Дениса КОВАЛЕВИЧА в этом году можно было встретить и на конференции по системной инженерии во ВНИИАЭС, и на форуме «Атомэко», и в Обнинске, на семинаре по долгосрочному планированию научно-технической деятельности Росатома… И, самое главное, Д. Ковалевич – постоянный участник заседаний комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.
– Что входит в задачи вашего департамента?
– Сразу после образования Госкорпорации «Росатом» в ней был создан Департамент стратегии, который я возглавил спустя какое-то время. Главная его функция соответствует его названию: департамент отвечает за разработку стратегии корпорации во всех ее ключевых элементах.
Как известно, основные положения стратегии были утверждены в апреле 2008 года Наблюдательным советом госкорпорации. С тех пор она достаточно широко дорабатывалась как в целом, так и по отдельным направлениям. Необходимость внесения изменений была обусловлена, во-первых, кризисом, во-вторых, принятием нескольких новых целевых программ, а в-третьих, тем, что Росатом движется в направлении не только развития энергетических технологий, но и формирования новых областей применения ядерных технологий. То есть ключевая роль Департамента стратегии заключается в том, чтобы все действия, которые осуществляет Росатом, были сфокусированы на главном, на стратегических целях и задачах, чтобы эта сфокусированность была содержательно подкреплена, то есть были понятны основания, направления действий и ресурсы... Такая регулярная деятельность называется стратегированием, и сегодня можно сказать, что мы завершаем первый большой этап, так сказать, первый цикл стратегирования.
– В этом году прошла большая кампания по обсуждению долгосрочных программ действий на предприятиях. Как вы оцениваете эту работу и какие результаты можно выделить?
– Это очень важная работа. С одной стороны, мы стремились довести новую стратегию Росатома до конкретных предприятий и специалистов, а с другой – создать обратную связь от предприятий и специалистов к руководству отрасли. В ходе прошедших семинаров по разработке программ деятельности предприятий последние указывали направления, в которых они собираются развиваться. Часть из них, несомненно, попадает в основную канву стратегии корпорации или её дивизионов и получает от них поддержку. Но есть ряд инициатив, выпадающих из общего русла, но которые также являются очень важными. Поэтому процесс обсуждения долгосрочных программ действий чрезвычайно важен и с точки зрения трансляции ключевых целей, рамок, смыслов деятельности госкорпорации, и с точки зрения получения обратной связи от предприятий.
Подводя его итоги, можно сказать, что примерно 50 % предложений программ долгосрочной деятельности предприятий уже отражены в стратегии дивизионов. Так, например, модернизация обогатительных предприятий, оптимизация деятельности и модернизация предприятий, занимающихся фабрикацией топлива, – всё это нашло свое отражение в программе долгосрочной деятельности Топливной компании.
Что касается второй половины предложений, то их можно назвать непрофильными видами деятельности. Как я уже говорил, Росатом начал двигаться в сторону новых рынков, например, в сторону рынков радиационных технологий, ядерной медицины, сельского хозяйства… Есть целый ряд иных применений, которые сейчас не составляют существенную часть бизнеса Росатома, но при этом очень перспективны и в будущем могут занять достаточное место. Постепенно этот портфель новых типов проектов, в основе которых лежат предложения предприятий, будет сформирован.
– В Топливной компании реализуется программа нового облика предприятий, которая предусматривает выделение непрофильных активов. С другой стороны, вы говорите, есть перспективные проекты, которые не совсем соответствуют профилю отрасли. Где, на ваш взгляд, та грань, которая отделяет одно от другого?
– Есть очевидные непрофильные активы, такие как комбинат питания, автотранспорт, детский сад или производство сельскохозяйственной продукции. У некоторых предприятий в активах есть даже стада…
Атомная отрасль всю свою историю ориентировалась на энергетические технологии – это было основным направлением трансфера технологий из оружейного комплекса. Однако параллельно создавались технологии, грубо говоря, второго порядка, обеспечивающие базовые. Так, Росатом, несомненно, имеет самую развитую в стране компетенцию по ускорителям всех видов, по работе с излучением, управлением излучением. Он также имеет одну из самых сильных компетенций в моделировании сложных систем, в лазерах, новых материалах, например сверхпроводниках. Именно эти компетенции и технологии, которые были разработаны Росатомом, являются, несомненно, профильными для нас. В стратегии Росатома зафиксирован такой целевой показатель, что к 2030 году пакет новых неэнергетических технологий должен составлять от четверти до трети всего бизнеса госкорпорации, то есть очень существенную часть. Например, целевой показатель только по новому дивизиону радиационной технологии, который сейчас создается, составляет 10 млрд долларов в 2030 году. Это гигантский рост.
Поэтому, в моем понимании, разделить технологии на «чистые» и «нечистые» не так сложно. Да, наверное, есть какие-то продукты и виды деятельности, которые занимают пограничное положение – по ним надо принимать решения в каждом конкретном случае. Так, есть отдельные проекты, которые не попадают ни в энергетическую часть, ни в приоритеты неэнергетической части, но являются интересными для локального рынка региона. Хочу подчеркнуть, что мы видим корпорацию не только как набор базовых продуктов, но и как точку, которая переносит наработки из одной сферы в другую, позволяет внутри себя прорастать новым направлениям и т.д. Такой кластерный принцип развития чрезвычайно важен и является мощным, пока не до конца задействованным ресурсом.
– Есть ли, на ваш взгляд, критерий, определяющий, какие проекты надо финансировать, а какие нет?
– Ну, например, государство приняло целевую федеральную программу по ядерным энерготехнологиям нового поколения, продемонстрировав тем самым, что готово вложиться в создание нового продукта, с которым Росатом будет выходить на мировые рынки. Замкнутый топливный цикл с быстрым реактором – это мегапроект, гигантские затраты. Этот проект значим во всех смыслах не только для отрасли, но и для всей страны, это будет новое лицо российской атомной энергетики. Только на ближайшую перспективу в ФЦП заложено 4 млрд долларов, но очевидно, что этих средств не хватит, Росатом будет вкладывать свои собственные средства и, возможно, привлекать международных партнеров. У такого масштабного проекта продолжительность только стартовой части – порядка 10 лет, а затем потребуется еще лет 10 для вывода продукта на рынок. Вот подобного рода мегапроекты и должно поддерживать государство, инвестировать в них существенные ресурсы, так как это вклад на 50–60–70 лет вперед, вклад в будущее страны.
Другой пример – ядерная медицина. С одной стороны, это абсолютно демонополизированный рынок, в мире на нем много игроков. Есть крупные, такие как «Тошиба», «Сименс», есть средние и более мелкие. Это хороший конкурентный рынок, в России, к сожалению, не очень развитый. Что делает государство? В данном случае оно инвестирует в первую очередь не в разработку технологий, не в Росатом как разработчика технологий, а в создание этого рынка в России. Так, в ближайшие 5 лет планируется построить большое число отделений радионуклидной диагностики, терапии, ПЭТ-центры высокотехнологичной ядерной медицины. Благодаря этому через 5 лет рынок ядерной медицины в России вырастет почти в 15 раз по сравнению с внешним показателем, то есть будет создан внутренний рынок объемом почти 1 млрд долларов в год. Это означает, что Росатом может планировать свое технологическое развитие в этом направлении, вкладывать собственные средства в расширение необходимых производств, в выпуск специального оборудования, инжиниринг медицинских центров... В дальнейшем внутренний рынок может выступить плацдармом для выхода на зарубежный рынок. То есть государство может действовать двумя способами: либо поддерживать крупные мегапроекты исследовательского характера, либо создавать локальные рынки.
Что же не может делать государство и чего не надо от него требовать? Это инвестировать в отдельные частные, конкретные, небольшие проекты, разработки отдельного вида оборудования или какой-то технологии... Во всем мире этим занимаются венчурные фонды, или фонды прямых инвестиций. Как известно, у венчурных предпринимателей из десяти проектов только один успешен, а 9 прогорают. Но в этом и состоит их бизнес, специфика их деятельности. Этот ресурс задействован нами еще далеко не в полной мере, и в следующем году мы планируем целый ряд действий по обеспечению доступа разработок, имеющихся в отрасли, к новому типу финансирования.
– Нанотехнологии сейчас на слуху. Между тем впервые в мире нановещество было получено еще в 50-х годах на предприятии Минсредмаша. Тогда время было упущено, и сейчас мы уже отстаем в этой области. Можно ли создать такие условия, при которых подобные технологии не будут утеряны и приоритеты будут сохранены?
– Мы пытаемся решить эту задачу. Во-первых, формулируем крупные технологические коридоры, как, например, коридор радиационной технологии или коридор материаловедения, или коридор моделирования, строя их долгосрочные прогнозы развития. Понятно, что никакой отдельный частный проект не может позволить себе точно спозиционировать свой продукт в рамках общемировых трендов. Во-вторых, мы осуществляем поиск проектов. Указываем тем проектам, которые мы нашли, их возможное место в этих технологических трендах. Росатом уже начал создавать специальные структуры, которые отвечают не просто за развитие некоего набора проектов, но и за системное развитие бизнеса, чтобы занять на рынке лидирующие позиции.
– Денис Александрович, правильно ли я понимаю, что вы являетесь ответственным в Росатоме за реализацию президентской программы по модернизации и технологическому развитию?
– Да, я веду контроль и мониторинг проектов, за которые отвечает Росатом в рамках президентской комиссии, и деятельности специальной рабочей группы по ядерным технологиям, которую возглавляет генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Итоговое в этом году девятнадцатое заседание комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России проходило в середине декабря в Сколково, где состоялся круглый стол по новым применениям ядерных технологий с широким спектром докладчиков. На нем С. Кириенко заявил, в частности, что Росатом намерен предложить инновационному центру «Сколково» вариант энергоснабжения за счет сверхпроводящих технологий и устройств.
– В этом году мы были свидетелем первого яркого прорыва в рамках программы – состоялась передача суперкомпьютера в КБ Сухого. Что нас ждет впереди?
– Действительно, в мае состоялась первая передача заказчику суперкомпьютера терафлопного класса со специальным программным обеспечением, созданного во ВНИИЭФ. С того времени передано различным потребителям, среди которых не только предприятия отрасли, еще 13 компьютеров. И на 2011 год по суперкомпьютерам очень большой план.
Вторым ярким примером стал запуск первой очереди производства молибдена-99 на базе НИИАР, который реализуется в рамках медицинского направления. Это самое ожидаемое событие для мировой ядерной медицины, так как 80 % диагностических процедур проводятся с помощью препаратов, основой которых является Мо-99. Проектная мощность первой очереди производственного комплекса составит до 900 кюри/нед., после ввода второй очереди комплекса общее производство достигнет 2700 кюри/нед. Этого будет достаточно, чтобы покрыть весь дефицит Мо-99 на мировом рынке в ближайшей перспективе.
Росатом подписал долгосрочный контракт с одним из крупнейших игроков на мировом рынке медицинской изотопной продукции – компанией Nordion, имеющей большой опыт в реализации подобных проектов. Контракт рассчитан на 10 лет с автоматической пролонгацией еще на 10 лет и подразумевает, что весь молибден, невостребованный на российском рынке, Nordion будет покупать по мировой цене. Первая тестовая партия российского молибдена-99 отправлена в Канаду для прохождения процедуры сертификации.
Этот проект интересен тем, что в отличие от суперкомпьютеров был сделан практически с нуля. В конце 2009 года президентом было принято решение о его поддержке, и Росатом еще до получения государственного финансирования за счет собственных средств начал реализацию этого проекта. И вот сейчас первые капли молибдена были получены. Это, наверное, самый яркий пример из новых проектов, которые возникли за последний год и были реализованы именно в рамках деятельности инновационной комиссии.
– Ранее много говорилось о сверхпроводниках и оборудовании на их основе. На какой стадии этот проект?
– Этот проект находится на ранней стадии. Сверхпроводники второго поколения, которыми занимается Росатом в лице ВНИИНМ, НИИТФА и других институтов, разрабатываются в широкой кооперации со многими неотраслевыми институтами и предприятиями, такими, например, как Курчатовский институт. Создание сверхпроводников – это не одна какая-либо отдельная технология, это, как говорят разработчики, мегатехнология. Здесь решающую роль играют как собственно сверхпроводящие материалы и их комбинации, так и способы их нанесения на базовую поверхность. И специфика этой технологии заключается в том, что под каждый конкретный вид оборудования, например, под сверхпроводниковый ограничитель тока, кинетический накопитель, сверхпроводниковый индукционный накопитель, кабель или двигатель, нужна собственная комбинация. Поэтому приходится инвестировать практически во все существующие методы и технологии нанесения слоев, подбирая для каждого из этих типов оборудования наиболее оптимальный по экономическим критериям тип сверхпроводника второго поколения.
Другая особенность сверхпроводников – невозможность прямого масштабирования технологий. То, что эффективно в масштабе метра, может оказаться неприменимым для кабеля длиной 100 метров, километр и более. Поэтому задача Росатома – сделать базовый набор технологических решений «на все случаи жизни». На это государство также готово давать деньги. Но процесс перевода опытного оборудования в серийное производство должен уже оплачивать пользователь. Например, федеральная сетевая компания уже сегодня инвестирует в сверхпроводниковый кабель, только пока еще на основе высокотемпературных сверхпроводников первого поколения. Как только стоимость сверхпроводников второго поколения будет сопоставима с первым, они станут товаром, который ФСК готова приобретать, так как внедрение сверхпроводимости в сферу энергетики позволит существенно снизить потери электроэнергии при её производстве, транспортировке, распределении и потреблении, что в конечном счете приведёт к снижению стоимости электроэнергии.
Это большой проект, работа по которому расписана поэтапно до конца 2014 года. Уже создан первый образец сверхпроводникового ограничителя тока, есть первый образец кинетического накопителя энергии. Задача следующего года – сделать линейку этих устройств, подобрав для каждого типоразмера оптимальную технологию.
– Несколько слов о космической ядерной энергетике. Это область, в которой мы имели явное конкурентное преимущество. Что ее ожидает?
– Проект, который мы делаем в рамках комиссии президента по заданию Роскосмоса, представляет собой установку мегаваттного класса для нового космического транспортного модуля. Её создание позволит осуществлять автономные межпланетные полеты длительностью в несколько лет. А это означает, что космонавты смогут отправиться на Марс, провести там исследования и вернуться.
Работы по модулю начаты, в этом году велось эскизное проектирование и определение ключевых конструкционных и технологических решений. Росатом в проекте является ведомым по отношению к задачам, за которые отвечают разработчики всего модуля, поскольку они определяют принципиальную компоновку модуля. Наша задача – вписать ядерный реактор в предписанные габариты и вес. Судя по всему, Росатом с этой непростой проблемой справится.
При этом я совершенно не исключаю двух вещей: во-первых, что создаваемая мегаваттная установка будет использована не только для этого модуля, но и для многих других, а во-вторых, что нам удастся перенести ее применение в «гражданскую» энергетику наземного базирования. Малая энергетика – этот тот тренд, который сейчас набирает обороты во всем мире. И перед Росатомом стоит задача выхода на малые и сверхмалые мощности, то есть мощности от единиц до сотен киловатт. Это очень понятный рыночный продукт.