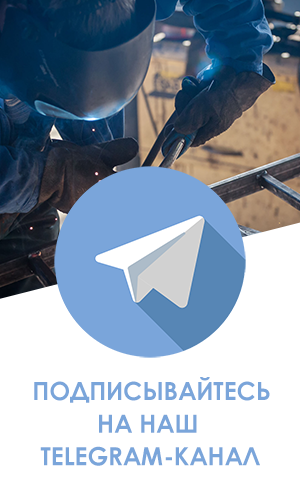Назвав Российскую академию наук «нежизнеспособной и бесперспективной», министр образования Дмитрий Ливанов открыл широкую общественную дискуссию о состоянии отечественного образования и науки.
Валерий Макаров, академик РАН, директор Центрального экономико-математического института
Российская академия наук занимается производством фундаментальных знаний о законах развития природы, общества и человека. Так записано в Уставе академии. Понятие «фундаментальная наука» уже вполне устоялось, под этим понимается наука, не имеющая прямых выходов в практику. На достижения фундаментальной науки опирается прикладная наука, которая доводит их до практического применения. Например, Майкл Фарадей, изобретатель индукционной катушки, создал учение об электромагнитном поле. Это чисто фундаментальный результат. Джеймс Максвелл обосновал классическую электродинамику. А Томас Эдисон, изобретатель телеграфа, коммерческого варианта лампы накаливания, фонографа, аккумулятора и многих других полезных вещей, довел научные теории до практического использования.
РАН, точнее Академия наук СССР, всегда работала в окружении учреждений прикладной науки – разнообразных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Когда страна вышла на рыночный этап развития, НИИ и КБ оказались в «безвоздушном» пространстве, не было спроса на их продукцию, и они постепенно стали исчезать. У меня нет точных данных, но некоторые эксперты утверждают, что до 80% прикладных НИИ и КБ в России перестали выполнять свои прямые функции.
Поэтому и создаваемые в академии фундаментальные знания оказались никому не нужны – некому их передавать. У некоторых академических ученых появилось ощущение невостребованности. Действительно, в наших академических институтах нет былого энтузиазма. Цепочка «фундаментальные знания – прикладные институты – практика» разорвалась. На Западе эта цепочка устроена по-другому. В частности, за прикладную науку отвечает не государство, а крупные частные компании. Они содержат научно-исследовательские подразделения и КБ. Например, в компании IT&NT есть лаборатория Bell Labs, в которой работали в разные годы 16 нобелевских лауреатов, в том числе и Клод Шеннон, создатель математической теории информации. У нас тоже звучали предложения передать НИИ и КБ крупным корпорациям. Некоторые компании нефтегазовой отрасли их у себя завели. Но настоящей прикладной науки все равно не получилось. Все-таки она должна быть сосредоточена в других отраслях – телекоммуникационной, машиностроительной, оборонной. Но там дело не пошло.
Так почему к нам, представителям фундаментальной науки, теперь предъявляют претензии, что она «неэффективна»? Почему мы оказались ненужными обществу? Думаю, что кроме нас эти претензии просто некому адресовать: прикладной науки в стране не существует.
Другая претензия, предъявляемая к академии, заключается в том, что наши ученые мало публикуются в западных журналах и якобы мы мало передаем свои результаты на мировой уровень. Конечно, если результат имеет значение для всего человечества, его надо публиковать в мировых изданиях. Но мировая наука устроена так, что нужно постоянно общаться с коллегами, выступать на конференциях, симпозиумах и т.д. Должен сказать, что наша наука вполне встроена в мировую, наши ученые участвуют в международных исследованиях, например, в экспериментах на Большом адронном коллайдере. И там, между прочим, ни у кого нет вопросов о количестве публикаций того или иного участника эксперимента.
Другое дело, что мы к нам не можем никого пригласить. У академии нет своей приличной гостиницы, приходится платить сумасшедшие деньги за проживание в московских отелях нужных нам зарубежных ученых. Когда нас приглашают в зарубежные университеты, мы живем в отличных условиях в faculty clubs (пансионы для гостей) и платим там буквально копейки.
Я работаю директором ЦЭМИ уже три десятка лет. В советские времена каждый год мы ездили на разные мировые конференции. Сейчас я вынужден уступать это право моим товарищам – на всех денег просто не хватает. И это одна из причин того, что наши ученые в какой-то мере отрываются от Запада.
Нам говорят: пользуйтесь Интернетом. Но здесь надо понимать, что виртуальное общение не во всех науках принято. Физики друг с другом постоянно общаются. Они могут проводить эксперимент в ЦЕРНе (Европейский центр ядерных исследований на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. – Ред.), а в Москве видеть происходящее на мониторе. А вот гуманитарии меньше пользуются таким возможностями. Я занимаюсь компьютерным моделированием общественных явлений, для сложных вычислений мы применяем суперкомпьютеры. Но интернет-общение в этой области не принято.
У представителей общественных наук нет однозначного ответа на вопрос, надо ли все публиковать за рубежом. Если предметом исследования является действительность России – вряд ли это там интересно, это надо публиковать у нас. Особенно это касается истории. Или, например, лингвистика: хорошо написанная на русском языке статья – самостоятельное произведение, которое много может потерять при переводе на английский. Культурологические тексты трудно переводятся с русского на другие языки: теряются смыслы. Философы вообще статей почти не пишут. Попробуйте изложить в короткой статье книгу Фукуямы «Конец истории» – не получится. Всемирно известный социолог Никлас Луман, изучавший устройство общества, изложил свои исследования в 60 томах.
Даже в математике никто не измеряет значение исследований количеством публикаций. Фердинанд Коши каждые две недели публиковал статьи – он был редактором математического журнала. А Карл Гаусс писал статью раз в пять лет. Но оба были великими математиками.
Опыт советской плановой экономики говорит: какой бы плановый показатель вы ни придумали, всегда найдется умник, который его выполнит. Но к науке это отношения иметь не будет. Производство фундаментальных знаний, которым занимается РАН, нельзя оценивать простыми, количественными показателями.
Человечество не может развиваться без науки. И в первую очередь без общественных наук, к которым относится экономика. Именно науки, изучающие общество, подсказывают ему, куда надо идти, каким должен быть следующий шаг.
Сейчас многие справедливо говорят, что экономическая наука находится в кризисе. В самом деле, первые лауреаты-экономисты занимались фундаментальными исследованиями. В последние годы премии дают за решение частных проблем. Классическая экономика изучила рыночный механизм до мельчайших деталей. Рыночная экономика себя исчерпала, и мы должны искать ее новое качество.
Кое-какие исследования на эту тему есть. И есть практический опыт смешанных экономик. Например, в Китае или Арабских Эмиратах. Конечно, это экономики разные. Но они дают основания для экономических исследований о том, как можно соединить рыночные и плановые механизмы или рыночные и семейно-родовые.
Человечество за свою историю выработало много разных экономических механизмов. И надо их изучать. Крупнейшие архитектурные памятники, дошедшие до нас (Тадж-Махал, египетские пирамиды), были построены не за счет рыночных процентов, а на каких-то других принципах. Понятно, за счет труда рабов. Однако же и в древние времена люди умели накапливать деньги и направлять их на строительство грандиозных сооружений. И этот опыт может быть полезен в будущем.
Надо изменить устоявшиеся представления. Классическая рыночная экономика исходит из принципа эффективности. В какое-то предприятие вкладывают деньги, предприятие работает, приносит инвесторам новые деньги. Инвесторы получают больше, чем затратили. Эффективность становится главным критерием успешности, а прибыль – целью любого предприятия.
Но почему это должно быть всеобщим законом? Все люди по-разному устроены, и у кого-то могут быть совсем другие цели. Например, нельзя оценивать с точки зрения эффективности советский (да и американский тоже) космический проект. Понятно, что задачей этих проектов была победа в конкуренции СССР и США. Полет Юрия Гагарина не принес никому дивидендов, но человечество открыло для себя новую эру.
Веками на нашей земле стоят прекрасные храмы и дворцы. На их создание ушло много средств. Но никто не ставил задачу строить их «эффективно» или экономить на строительстве. Была задача строить красиво и на века. Эти сооружения не имеют рыночной цены.
Посмотрите, на чем основаны мировые религии, на чем основаны Ветхий и Новый Заветы. Все правила поведения людей, все заповеди не говорят людям: надо зарабатывать больше денег. Напротив, заповеди утверждают моральные, этические нормы поведения людей.
Разве Фритьоф Нансен искал путь к Северному полюсу, чтобы там заработать много денег? Или Ерофей Хабаров открывал Дальний Восток ради прибыли? Это были люди, обладавшие проектным мышлением. Это значит, что у них были цели, более высокие и благородные, чем прибыль.
Я думаю, что будущее – за проектной экономикой. Слово «проект» в моем понимании означает наличие высокой цели, которую вместе с тобой разделяют много других людей, к этой цели надо стремиться, надо ее достигать, независимо от того, приносит это прибыль или нет. Как раз наиболее благородные проекты прибыли-то и не приносят. Поэтому проектная экономика противоречит рыночным принципам.
Строительство скоростных железных дорог по всей России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть очень затратным проектом. Но в основе такого проекта – сохранение целостности страны. Если мы возьмемся за него, не будет разговоров, что там все скоро опустеет и у нас отберут то, что Хабаров и другие исследователи присоединяли в России.
Проектное мышление как-то надо внедрять в жизнь. Оно не всех устраивает. У нас, конечно, есть проекты. Например, проект Олимпиады в Сочи. Это хороший проект. Ведь была цель показать, что Россия в состоянии сделать что-то важное для мира. Но проект погряз в воровстве, у людей сложилось впечатление, что все это лишь напрасная трата миллиардов бюджетных денег.
Кстати, многие сейчас вспоминают советские проекты – ДнепроГЭС, Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре. Вспоминают добрым словом. А вот БАМ вспоминают уже не так. Хороший был проект, но менеджмент плохой. Проект надо очень тщательно прорабатывать до мельчайших деталей. Именно здесь и будут востребованы проектные изыскания, конструкторские бюро, НИИ, о которых я уже говорил. Именно такие учреждения прикладной науки должны доводить до практического воплощения большие научно обоснованные проекты.
В мире постоянно увеличивается значение знаний. Ученые играют все большую роль в развитии человечества. Оно все-таки прошло путь от Аристотеля и Пифагора до Большого адронного коллайдера. Это научное мероприятие – поиск какого-то бозона – с точки зрения рыночной экономики весьма неэффективно. Но правительства развитых стран идут на это, потому что понимают высокие цели этого проекта.
Наша страна почему-то движется в противоположном направлении. У нас значение интеллектуальной составляющей постоянно снижается. Сейчас уже многие считают, что не стоит тратить деньги на науку, лучше пустить их на модернизацию ЖКХ. Надо понимать, что все в мире взаимосвязано. ЖКХ не будет работать, если у этой отрасли не будет интеллектуального управления. Если вы сжимаете сферу фундаментальной или прикладной науки, взамен получаете отупение и разврат в обществе. Я хочу надеяться, что в нашем обществе роль ученых будет возрождена, они станут уважаемыми людьми, как было в старые, в том числе советские, времена.
Меня поразил недавний факт: Борис Березовский и Гурий Марчук умерли в один день. Вся пресса писала о Березовском. Никто не вспомнил Марчука, последнего президента Академии наук СССР, члена правительства, человека, много сделавшего для страны. Грустно. Но я не теряю оптимизма. Верю, что вместе мы вырулим на ту дорогу, по которой идут интеллектуально развитые люди.