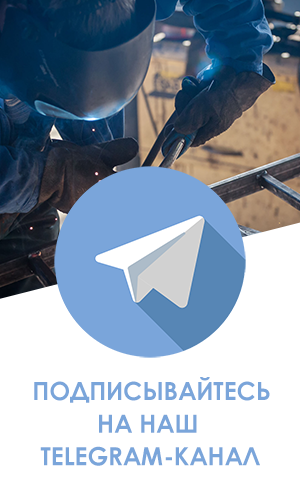Когда сегодня руководство страны говорит о модернизации, новой индустриализации и сокращении сырьевой составляющей в отечественной экономике, мы должны понимать, что все это невозможно без развития машиностроения.
Автор: Половинкин Валерий Николаевич — заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор, научный руководитель Лаборатории высоких технологий Военно-Морской академии, заместитель председателя Экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ по проблемам флота и кораблестроению, основоположник известной научной школы по проблемам обеспечения живучести, надежности и безопасности судовых и корабельных боевых и технических средств на базе высоких наукоемких технологий.
Когда сегодня руководство страны говорит о модернизации, новой индустриализации и сокращении сырьевой составляющей в отечественной экономике, мы должны понимать, что все это невозможно без развития машиностроения. К сожалению, пока мы наблюдаем, что двадцать лет бурных, чаще всего необоснованных, преобразований не избавили страну от унизительной сырьевой зависимости.
Именно развитие машиностроения будет определять — сможет ли Россия занять ведущее место среди государств, обладающих высокотехнологичной промышленностью и производящих продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках, или мы окончательно превратимся в сырьевой придаток экономик развитых стран мира. Удивительно, что об индустриализации и о машиностроении вспомнили только сейчас, ведь с этого надо было начинать обоснованное позитивное преобразование отечественной экономики. От уровня развития машиностроения зависят все важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (например, материалоемкость, энергоемкость и т. д.), производительность труда в других отраслях народного хозяйства, а также уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.
Тут же лежит и ответ на вопрос, почему мы, богатейшая в мире страна, добывающая в мире больше всех энергоносителей и полезных ископаемых, имеем такой относительно небольшой ВВП? Чем глубже утилизация и переработка первичных ресурсов, тем больше и ВВП. Почему китайцы вышли на высокие темпы роста ВВП? Потому что у них есть свои обрабатывающие и перерабатывающие производства. А мы в основном добываем сырье и сразу его продаем заграницу. Если бы продавали не нефть, а уже изделия из пластмасс и полимеров, мы бы увеличивали ВВП. А обрабатывающие производства — это машиностроение. Именно от его развитости зависит глубина переработки природных ресурсов.
Нам говорят, что некие инновации уже сегодня поднимают нашу промышленность. Есть интегральный показатель подъема промышленного производства — объем потребляемого металла. Если бы у нас происходил реальный экономический рост, у нас бы росло внутреннее потребление металла. Но у нас оно только сокращается, особенно сокращается потребление качественного металла. Значит, ни о каком подъеме промышленности говорить нельзя.
Некоторое время назад в Госдуме обсуждали проект «Сколково», при обсуждении данной проблемы я сказал: как вы собираетесь, образно говоря, строить дворец высоких технологий, при этом не уделяя внимания тем экскаваторам, станкам, машинам, с помощью которых он строится? Будущее экономики любой развивающейся страны — в машиностроении, только оно дает развитие любому государству. Нет машиностроения — нет развития самостоятельного государства. Техническая и технологическая модернизация машиностроительного комплекса — основа развития экономики страны. Именно машиностроение может и должно стать главным плацдармом подъема экономики России и придания ей инновационного характера.
Сегодня практически все подотрасли машиностроения переживают не лучшее время. В структуре промышленного производства страны удельный вес машиностроения составляет около 20% (второе место после топливно-энергетического комплекса), что, однако, в 1,5—2,5 раза ниже, чем в экономически развитых странах, где он достигает 35—50% и более.
Например, падение производства по всем видам металлообрабатывающего оборудования значительно превышает средние показатели по машиностроению — производство этого оборудования снизилось на 85—95%, если считать от уровня 1991 года. Особенно сильное сокращение (на 99%) произошло в выпуске высокопроизводительных автоматизированных видов оборудования: станков с числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающих центров, гибких производственных систем (ГПС), модулей. Потеряна квалификация многих станкостроителей из-за их переключения на выпуск непрофильной продукции. Уровень рентабельности низок, а количество убыточных предприятий достигает 60%. В целом наибольший спад производства произошел в самых передовых отраслях машиностроительного комплекса, таких как станко-, авиа- и приборостроение, электронная и электротехническая промышленность, ракетостроение, судостроение и др.
Официально износ основных фондов в машиностроении составляет около 45—55%. Реально — до 80%. Только 20% современного парка оборудования на предприятиях более или менее отвечают современным мировым стандартам, если не брать те предприятия, которые строятся сегодня в России западными компаниями для «отверточной сборки». Эти заводы действительно отличаются новой техникой. Но удивительно, что мы так приветствуем их строительство, ведь основную прибыль они приносят вовсе не в российский бюджет.
Помимо деградации основных фондов машиностроения, достигшей критической отметки (фактический возраст парка российского машиностроения превышает 20 лет), серьезными проблемами является технологическое отставание России от передовых стран, в первую очередь в станкостроительной и двигателестроительной сфере, и низкое качество продукции, высокие производственные издержки (металлоемкость, энергозатраты, транспортировка), низкая рентабельность производства и как следствие — недостаток оборотных и инвестиционных средств для развития. Но главная причина создавшегося положения — отсутствие обоснованной, базирующейся на достижениях науки и техники, единой государственной стратегии преобразования и опережающего развития отечественного машиностроения.
Энергоэффективность и производительность труда большинства наших предприятий позорно низки. В значительной степени это связано с тем, что мы утратили школы рабочих специальностей. Например, мы гордимся тем, что мы — родина титановых сплавов. Но это очень капризный материал, требует высочайшей квалификации при сварке. Мы сейчас практически не найдем в России предприятий, которые в массовом масштабе были бы готовы осуществлять сварку таких сплавов. Раньше такой сварщик даже после отпуска отрабатывал заново навыки на моделях, это был высочайший профессионал, способный, например, по цвету металла точно определять его температуру. Прошло 20 лет, таких специалистов вообще уже почти нет. Но, к счастью, школа еще есть. Еще живы носители этих знаний. Все это еще можно восстановить.
Кроме того, основа любой промышленности — это конструкционные материалы. У нас еще остались такие резервы, мы до настоящего времени способны производить лучшие в мире материалы. Так, на смену упомянутых титановых сплавов мы создали высокоазотистые стали, которые отличаются особой прочностью и диапазоном температур. Даже сейчас у нас есть хорошие позиции в области новых материалов.
Несмотря на все проблемы и трудности, в России имеются все необходимые условия для восстановления и опережающего развития машиностроения. Это прежде всего собственные энергетическая и сырьевая база, развитая коммуникационная сеть, все еще имеющийся достаточный и не до конца утраченный научный, интеллектуальный, кадровый, производственный потенциал.
В первую очередь нам жизненно необходима переориентация отечественного машиностроения на интенсивный, опережающий путь развития. Здесь придется решать целый комплекс накопившихся взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем в законодательной, нормативно-правовой, финансово-экономической, образовательной и кадровой сферах. При этом нам не надо пытаться догнать Запад, по всем направлениям машиностроения это бессмысленно. Но у нас есть свои перспективные направления, где мы конкурентоспособны. Например, это горнодобывающая техника. Говорить о том, что вся продукция нашего машиностроения может быть в ближайшее время конкурентоспособной на мировом рынке, — это утопия. Мы и не можем конкурировать, например, по климатическим условиям с предприятиями Кореи: там можно круглый год вести сварку на улице, а мы можем делать это на севере только в закрытых помещениях. Мы никогда не будем конкурентоспособны по себестоимости. В машиностроении мы затрачиваем на 1 килограмм реализованной конструкции в четыре раза больше энергии, чем в Европе.
Однако даже такое положение не надо драматизировать. В США ряд машиностроительных отраслей, то же судостроение, неконкурентоспособны по себестоимости с зарубежными аналогами. Но американцы по этому поводу не переживают, вкладывают в это деньги и поддерживают свое производство. Главное, чтобы машиностроительная продукция была востребована на внутреннем рынке. Именно на внутренний рынок делает ставку Китай. Мировой опыт показывает: устойчивой может быть та экономика, в которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют порядка 70% внутреннего спроса. Важно понять — Россия должна защищать своих производителей, нам нужен жесткий протекционизм, так поступают все государства.
Кроме того, мы забываем, что машиностроение развивалось благодаря военной отрасли. Военные заказы тянули за собой обновление парка оборудования и технологий машиностроительных предприятий. Развитие промышленности невозможно без развития ВПК.
Сложность дальнейшего развития машиностроения России состоит в том, что в ближайшей перспективе необходимо решить одновременно три основные задачи. Первая — осуществить интенсивную модернизацию машиностроения и его техническое перевооружение, в первую очередь, приоритетных подотраслей. При этом важно в перспективе уйти от технологической зависимости российского машиностроения (в первую очередь оборонно-промышленного комплекса) от зарубежных поставщиков технологий и оборудования. Вторая задача связана с подготовкой и переподготовкой кадрового потенциала. Нужно формировать новое инженерно-техническое и управленческое поколение, способное обеспечить инновационное развитие машиностроения. И, наконец, нужно создать условия для повышения инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий и обеспечения притока частных инвестиций в машиностроение. Нельзя утверждать, что в области машиностроения мы окончательно утратили что-то важное, русский народ исключительно талантлив и способен решить любые проблемы. Есть ли точка возврата для машиностроения? Конечно, есть. И для этого нужны не столько государственные деньги, сколько политическая воля и понимание значимости роли машиностроения руководством страны.
Но говорить о наличии в России общего системного стратегического подхода к модернизации машиностроительного комплекса пока не приходится, и главная причина такого положения заключается в первую очередь в непродуманной кадровой политике нашего государства. В составе руководства машиностроительной отрасли появились в постсоветские годы так называемые топ-менеджеры, которые вообще некомпетентны в области машиностроения. Многие руководители реальных производств весьма отдаленно представляют даже простейшие технологические процессы руководимого ими предприятия. Тогда как сегодня, особенно в связи с усложнением технологий промышленных производств, руководить промышленным производством должен только профессионал-инженер с управленческими навыками, а не абстрактный менеджер, который даже не представляет сути объекта управления.
Неэффективность кадровой политики проявляется и в непривлекательном «имидже» технического образования, что не способствует привлечению квалифицированных и талантливых специалистов в сферу промышленного производства, научно-технической и технологической деятельности. Если бы в стране на самом высоком уровне существовал престиж образования, престиж инженерных специальностей, это бы все чувствовали. А у нас хотят престижность образования повышать введением системы бакалавриата, то есть подготовки недоученного специалиста, забывая, что это лишь одна из форм высшего образования на Западе.
В наиболее престижных национальных высших школах западных стран готовят специалистов. Двухступенчатый уровень образования принят лишь в массовых университетах. Так, во Франции в Высшую техническую школу сдают не ЕГЭ, а более десяти экзаменов, и учитываются также оценки абитуриента, начиная с 5-го класса школы. А мы увидели на Западе почему-то только двухступенчатую систему. Аргумент, что с дипломами такого формата наши специалисты будут более востребованы на международном рынке труда, несостоятелен. Технари востребованы и сейчас. А вот о востребованности на Западе наших экономистов, юристов или психологов, даже с дипломом магистра, пока не слышно.
С этими специальностями вообще сложилась абсолютно перекошенная ситуация. На одного технического аспиранта или докторанта у нас приходится до десяти гуманитариев — юристы, экономисты, психологи. Но ведь это обеспечивающие, надстроечные отрасли, которые должны помогать работать основе — техническим отраслям. В стране созданы тысячи гуманитарных вузов с сомнительными научными школами. Мы практически уничтожаем личности, способные на творчество, когда после такого высшего образования все эти молодые люди идут в многочисленные офисы и конторы, занимающиеся посреднической деятельностью.
В стране бытует мнение, что нам не нужно столько технических специалистов и что наши инженеры не отвечают современным требованиям. Но если наша техническая школа плоха, почему же наших выпускников технических вузов буквально с руками отрывают зарубежные фирмы? В США 80% высокотехнологичных специалистов-физиков — это эмигранты, химиков — около 70%. Я однажды делал доклад, где присутствовала представитель конгресса США, отвечающая за образование. На мой вопрос «Что означает, если у страны 80% должностей по наукоемким специальностям занимают эмигранты?», она ответила: «Это крах национальной системы образования». Я с удовольствием обратил внимание представителя конгресса, что именно такова статистика по США, которую приводил ее же руководитель в докладе для конгресса.
Известны слова знаменитого адмирала США Риковера, отца американского атомного флота, о том, что самое главное оружие СССР — это не его военная мощь, а советская система начального образования. Сила советской системы образования была в том, что она давала системное мышление, способность самостоятельно мыслить, принимать решения. Эйнштейн говорил, что образование — это то, что остается у вас в голове после того, как вы, окончив университет, забыли все, чему вас там учили. Может быть, мы не всегда давали знания конкретных технологий и не готовили идеальных узкопрофильных специалистов, но это было не недостатком, а, скорее всего, даже преимуществом.
И если мы не остановим уничтожение уникальной российской образовательной школы, которое происходит по вине некомпетентности и непрофессионализма управляющего аппарата Минобрнауки, ни о какой реиндустриализации говорить не придется.
При соответствующей политической воле нужно не более 20 лет, чтобы мы заговорили на равных со многими зарубежными государствами в сфере машиностроения. Это потребует относительно небольших вложений средств. Скорее даже не вложений, а просто перераспределения статей национального бюджета. Мы сегодня находим средства на гигантские программы и проекты, которые не по силам даже самым развитым государствам мира, и в то же время говорим о недостатках средств для развития национальной промышленности. Это трудно понять, а тем более объяснить.
Возьмем РАО ЕЭС. Во что у них вложены огромные средства — какие-то дома отдыха, офисы, бонусы руководителям. А трансформаторы горят. Мы покупаем футболистов за миллионы евро в месяц, посмотрите на число дорогих машин у нас на улицах, посмотрите на «рублевские» дворцы «звезд и звездочек». Вывод один: у России более чем достаточно денег.
Кроме того, есть и еще один очень серьезный резерв средств на развитие отечественной промышленности. Это сокращение энергетических потерь. В России очень высокое энергопотребление: на тонну выплавляемой металлопродукции мы тратим энергии на 30% больше, чем США, и на 160% — чем в Европе. Есть в мире установка, что уровень жизни человека определяется энергопотреблением на душу населения. Но Россия — первая в мире страна по объемам добычи первичных энергоресурсов и с очень высоким энергопотреблением. Однако мы не можем похвастаться высоким уровнем жизни. О чем это говорит? В частности, и о том, что у нас крайне низкий уровень энергоэффективности и энергосбережения. Для нас проблема заключается не в увеличении энергогенерирующих мощностей, а в сохранении энергии. Причем речь должна идти о внедрении реальных высокоэффективных энергосберегающих технологий, а не о кампании с этими пресловутыми лампочками. Кстати, вся Европа уже имеет проблемы с безопасностью и утилизацией энергосберегающих ламп.
Исправлять ситуацию в энергетической отрасли надо там, где потери энергии максимальные. Например, у нас потери энергии при ее транспортировке от мест генерации до потребителя превышают 20%. Далее, 17—20% энергии мы теряем в первичных двигателях, трансформаторах, других преобразователях. Транспортные потери тепловой энергии у нас вообще достигают 40% и более. И только какую-то сотую часть процента мы теряем на освещении. Вот для Зимбабве потери на освещение могут иметь определяющее значение, и у них замена ламп освещения на менее энергозатратные может являться актуальной. А в развитой стране лампочки — это последнее, что влияет на экономию электроэнергии.
Если бы мы уменьшили, например, в электроэнергетике транспортные потери, хотя бы до 10% с нынешних 20%, мы могли бы еще 15 лет покрывать рост потребностей в энергии без увеличения объемов ее выработки. Для этого существует множество технологий, уже разработанных и апробированных. И это не распиаренные зеленые технологии, а реальные индустриальные разработки. Это и замена надземных линий электропередачи подземными, и улучшенные агрегаты первичных двигателей на электростанциях, системы защиты. А все это машиностроение.
К сожалению, развивать новые виды российских технологий сегодня часто мешает логика бизнесприбыли. Такие технологии требуют серьезных инвестиций и не отбиваются краткосрочно, это долгосрочные инвестиции в инфраструктуру. А сегодня у нас все построено на принципе мгновенного получения прибыли и сокращения издержек. Например, с какой идеей бы вы ни пришли в Роснанотех, вас первым делом спросят, какая будет отдача на вложенный рубль в ближайшей перспективе? Если 5 рублей или 10, отличный проект. А затратные на первом этапе технологии долгосрочных инвестиций в инфраструктуру их не интересуют. Аналогичный подход мы видим и в нынешней схеме госзакупок. Вся российская система объявления тендеров порочна по своей сути. Критерий для всего — цена. Допустим, есть тендер на какие-то НИОКР. Находится подрядчик — как правило, случайная фирма, которая снижает цену выполнения заказа в два-три раза. Серьезные ответственные организации так делать не могут, в итоге такой подрядчик берет тендер и потом начинает тянуть деньги с заказчика на выполнение работ, причем с огромной пролонгацией сроков выполнения. Поэтому у нас средняя продолжительность НИОКР — 15 лет. За это время идея, даже самая передовая, морально устаревает. Важно, чтобы при объявлении тендера выбирали не то, что дешевле всего, а то, что будет реально эффективно для дела. Поэтому новый индустриальный рывок для России зависит не от размеров бюджетных вложений в отрасль и даже не от восстановления утерянных технологических направлений. А в первую очередь от политической воли и четкого понимания целей: какую страну и какую экономику мы хотим увидеть в будущем. Если это будет четко сформулировано, то все технологические проблемы можно будет решить. Пока еще у России на это достаточно ресурсов.