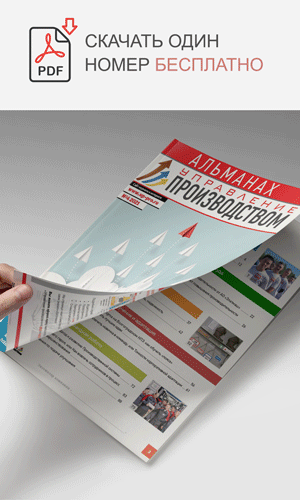Не запатентованное вовремя изобретение может стоить компании миллионов недополученной прибыли. Выстроить систему коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности – одна из приоритетных задач «Росатома». Для этого в отрасли с 2012 года формируется система управления знаниями.
Представьте: на международном форуме одно из секционных заседаний посвящено новым ядерным технологиям. На экране под развернутые комментарии российского ученого демонстрируются слайды с подробным описанием изобретения. Аудитория в восторге. В перерыве некий мужчина, делая вид, что не может не ответить на очень важный звонок, ненадолго покидает зал. Он работает в крупной зарубежной атомной компании. Через два дня эта компания уже имеет патент на изобретение нашего ученого, которое теперь будет выходить под иностранным брендом. Ситуация, как ни печально, вовсе не гипотетическая. Доказывать потом чтото уже бессмысленно.
Известны случаи активизации иных компаний на почве патентования технических решений для перспективных реакторных установок, разработка которых идет в России.
Реальность такова, что зачастую о патентовании вспоминают уже постфактум. А ведь затраты на создание наукоемкого результата интеллектуальной деятельности (РИД) немалые. Как сообщил заместитель директора блока по управлению инновациями «Росатома» Александр Тузов, они составили по предприятиям в 2011 году более 50 млн рублей. К слову, у IBM, мирового лидера в области патентования РИД, это порядка 30 млн в рублевом эквиваленте. Таким образом вырисовывается задача тратить меньше, получать больше. В долгосрочной перспективе для повышения эффективности финансирование одного наукоемкого патента должно сократиться вдвое, отметил Тузов. Одновременно патентная активность к 2020 году должна увеличиться в пять раз. Поможет с защитой результатов интеллектуальной деятельности и их коммерциализацией система управления знаниями (СУЗ), которая развернется на полную мощность к 2015 году.
Проблем в области защиты результатов интеллектуальной деятельности у «Росатома» достаточно – специфика отрасли накладывает отпечаток. Порой научные институты в рамках одного итого же проекта не могут получить нужные сведения изза грифа «секретно» или «коммерческая тайна». «Всегда будет человеческий фактор – чиновники на местах обладают полномочиями закрыть информацию по РИД. Они должны отдавать себе отчет в том, что не всегда такое наиболее эффективно. И, конечно же, необходимы методики и инструменты, которые упрощают работу с информацией», – отмечает Александр Тузов.
Другой барьер – нежелание научных сотрудников заниматься патентованием своих решений. «Система управления знаниями здесь является инструментом мотивации, – говорит директор ЗАО «Наука и инновации» Николай Кондратьев. – Мы не должны уговаривать людей заниматься этой работой, у них должна быть внутренняя потребность».
По словам начальника управления интеллектуальной собственности ГНЦ РФ– ФЭИ Валерия Дельнова, оформление заявки не такая сложная процедура, как может показаться ученому, особенно молодому: «Сегодня есть масса обучающих семинаров по этой теме. В прежние времена каждый инженер регулярно повышал квалификацию в области защиты РИД. Судите сами: если человек на собственном примере покажет, что это реально, остальные поверят в себя. Без вовлеченности не обойтись. Любого можно научить – было бы желание».
В качестве примера Дельнов привел историю молодого ученого из ФЭИ Александра Жукова. Незадолго до защиты кандидатской научный руководитель направил его в патентный отдел. Валерий Дельнов объяснил, как составить документы. «Задаю вопрос: у вас устройство? Он отвечает: да, устройство. Прошу перечислить основные элементы и описать взаимосвязи. Через 40 минут формула изобретения готова. Еще полчаса потребовалось на то, чтобы на ее основе подготовить описание. За год и два месяца – рекордный срок – Роспатент выдал патент на изобретение», – рассказывает Валерий Дельнов.
Ярким примером патентной тактики стал проект СВБР100 «АКМЭинжиниринг». Зная потенциальные риски, всю работу специалисты компании провели заранее. «Они поняли эту проблему всем сердцем. Как только установку начали делать, за границей расплодились патенты от организаций, которые такими вещами никогда не занимались»,– отметил заместитель генерального директора ФЭИ – директор Института инновационных технологий Петр Мартынов. Продать реакторы за рубеж, а потом получить извещение, что там используется технология, запатентованная в другой компании, – вряд ли комуто такое понравится.
Успешность СУЗ, а соответственно, и коммерческий результат от РИД напрямую зависят от того, кто будет управлять знаниями. Такие администраторы должны, по мнению Тузова, иметь хорошую техническую подготовку – не ниже уровня ИТР. Неплохо было бы иметь степень кандидата или доктора наук. «Это должен быть человек мультидисциплинарный, понимающий сферу деятельности научного института, обладающий уникальными знаниями по обращению с интеллектуальной собственностью, – рассказывает замдиректора БУИ. – Тут можно либо человека с компетенциями по работе с интеллектуальной собственностью натаскать по основным темам института, либо взять ученого, не раз защищавшего интеллектуальную собственность».
По планам, в этом году к формированию социальной сети научных экспертов и централизации управления РИД и интеллектуальной собственностью в единой информационной системе примкнут более 1,5 тыс. человек, а ведь начиналось все с десятка энтузиастов. В случае если мотивация научных сотрудников будет расти, а их заявки на патентование изобретений будут иметь свое логическое завершение, отрасль от этого тольковыиграет.
Дмитрий Шустов