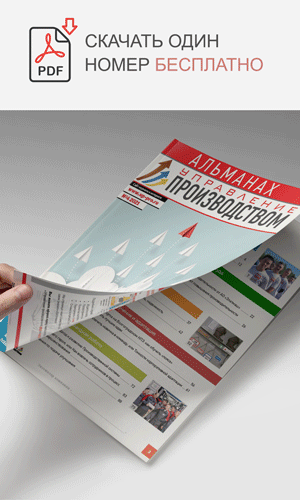О текущей ситуации и перспективах развития научного комплекса «Росатома» мы побеседовали с заместителем гендиректора госкорпорации, директором блока по управлению инновациями Вячеславом Першуковым.
– В советское время в отрасли трудилось много великих людей. Славский даже говорил, что у него в Минсредмаше малая Академия наук. Уместно такое сравнение сегодня?
– Сравнение не вполне корректное. Фундаментальными исследованиями «Росатом» сегодня не занимается – все профильные отраслевые институты сосредоточены в НИЦ «Курчатовский институт». Но мы можем эти работы заказать и активно пользуемся результатами фундаментальных исследований всех научных центров. «Росатом» же сегодня – это в первую очередь бизнес-структура, которая должна заниматься прикладной наукой, то есть решать конкретные технические задачи.
– А с лидерами что? Есть ли фигуры, сопоставимые по масштабу с Сахаровым, например?
– Для прикладной науки и решения инженерных задач есть свои научные лидеры. Академик Сахаров в большей степени занимался фундаментальными или прикладными вопросами? Сложно определить. А теперь разрыв между этими двумя направлениями стал больше. И конечно, масштабных ученых не хватает – это общая проблема высокотехнологичных корпораций.
– В 2009 году средний возраст ученого в отрасли составлял примерно 55 лет. Теперь – 48 лет. За счет чего происходит омоложение?
– Общая тенденция 1980 – 1990-х заключалась в том, что определенная часть перспективных молодых специалистов ушла в менеджмент, финансы, бизнес, предпринимательство. И до тех пор, пока в этих сферах существовал дефицит кадров, они подпитывались выпускниками технических вузов, потому что уровень образования там чрезвычайно высок. Особенно если говорить о фундаментальной физике. Но постепенно произошло насыщение банковской сферы, ИТ, экономики, и начался обратный процесс. Сегодня молодые люди все чаще выбирают карьеру там, где понятны перспективы и есть стабильность. Атомная промышленность – как раз одна из тех отраслей, где объекты рассчитаны на длительный период существования. Поэтому определенная стабильность ощущается. К тому же отрасль развивается. Это, безусловно, способствует замещению возрастной группой 35 – 40 лет. В науке это наиболее творческий потенциал – когда ученые имеют способности и силу на прорывные работы. Пополнение молодыми кадрами – это хорошо. Но еще лет десять пройдет, прежде чем мы в полной мере восстановим творческий потенциал научно-технического комплекса отрасли.
– В свое время снизилась популярность профильных специальностей. Что предпринимает «Росатом» для возвращения физиков?
– Прежде всего, мне не нравится слово «физик». Это слишком жесткое ограничение. Нам нужны люди самых разных специальностей: химики, геологи, специалисты в области материаловедения. Возникает спрос на новые профессии, которых не было до последнего времени, например медицинских физиков.
Мы системно работаем с вузами. Устраиваем мероприятия для молодых специалистов и выпускников, такие как инновационный форум «Форсаж» или дни карьеры в НИЯУ МИФИ. Приглашаем ведущих ученых читать публичные лекции и проводить мастер-классы. Все это в конечном счете не только стимулирует интерес, но и позволяет сформировать правильное отношение к корпорации. Люди должны гордиться тем, что они работают в «Росатоме».
– Чиновники жалуются, что вузы выпускают хороших специалистов, а они уезжают на Запад. Для «Росатома» эта проблема актуальна?
– Я не разделяю эту позицию. Напротив, обеими руками за организацию стажировок и участие наших ребят в международных проектах за границей. Задача в другом: надо сделать так, чтобы им захотелось вернуться. Тот факт, что кто-то из мировых корпораций пригласил того или иного выпускника на работу, – подтверждение его конкурентоспособности. А дальше давайте создавать для людей такие условия, чтобы был стимул вернуться. Если мы пригласим молодых специалистов, создадим им условия для работы и качественной жизни, то тем самым привлечем и новые заказы, которые принесут с собой новые кадры.
– Важные показатели развития научно-технического комплекса «Росатома» – это доходы от продажи результатов интеллектуальной деятельности. На какой уровень рассчитываете выйти в перспективе?
– Тема непростая. И тем не менее она является ключевой для стабильной работы научно-технологического комплекса. Ученым очень трудно создавать новое, то, что никем до сих пор не сделано. При этом тиражировать, использовать уже созданную интеллектуальную собственность в России пока не менее сложно. Тогда как в мире именно это является основой существования прикладной науки. Дело не в изобретательности или в авторских правах. Нужна система работы с интеллектуальной собственностью, правильная основа для возможности многократно оплачивать ее коммерческое использование.
Мы в «Росатоме» запустили проект «Система управления знаниями». И на сегодняшний день можем привести примеры успешной коммерциализации технологий. До последнего времени мы продавали в основном конкретные продукты – по сути, железо. Разворот в сторону патентов и ноу-хау начался фактически с 2011 года. При этом цифры двухлетней давности приводить не буду – гораздо важнее динамика. Так вот, в 2012 году по отношению к 2011-му рост заключенных и оплаченных контрактов в области РИД вырос в пять раз. В 2013 году – в шесть раз. Мы ожидаем, что в 2014 году этот объем увеличится еще в три-четыре раза, а к 2017 году совокупный доход за пятилетку от продажи лицензионных продуктов и лицензий составит порядка 30 – 40 млн долларов. И это только начало.
Сейчас обсуждается возможность платить роялти не только ученым, но и, к примеру, конструкторам, проектировщикам. Для этого конкретных специалистов необходимо мотивировать, чтобы они давали типовые решения, которые будут делать конечный продукт дешевле.
– Маркетинговую политику научно-технического комплекса надо улучшать?
– Безусловно. Раньше научный блок этим не занимался. Мы видим три категории рынков: по отдельным продуктам типа изотопов или конкретного оборудования, по услугам, если речь идет об облучении в исследовательских реакторах или других видах установок, и рынок непосредственно научных исследований. Как построить один дивизион, который будет работать сразу во всех сегментах? Непростая задача. Но мы попробуем решить ее за 2014 год.
– Теперь о точках роста. Как вы оцениваете динамику проекта «Прорыв»?
– Россия – единственная страна в мире, которая поставила перед собой широкомасштабную задачу доведения технологии реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем до коммерческой стадии. Для этого приняли ФЦП, которая сегодня динамично реализуется. Но федеральная программа этой задачей не исчерпывается.
Проектом «Прорыв» я руковожу уже два с половиной года. За это время многое удалось сделать. Есть подробная дорожная карта, она состоит из 15 тыс. элементов и отслеживается ежедневно. Многие вопросы решаются одновременно, по принципам проектного управления. Сформирован уникальный коллектив, консолидированы научные силы. Построена система планирования и мотивации. Ведутся масштабные НИОКР. Уже появились первые результаты. Мы приняли решение о создании демонстрационного энергетического комплекса с реактором БРЕСТ, выбрали площадку. Так что проект развивается. Хотя, конечно, есть риски при недоказанной технологии. Но без опытного образца нам ее и не доказать. Надеюсь, прорвемся.
– В «Росатоме» много говорят о необходимости увеличить присутствие на смежных рынках. Расскажите об этом подробнее.
– Есть множество отдельных рынков, где может найтись интересное применение нашим технологиям: редкоземельные металлы, радиоэлектроника, магниты, композиты. Радиационные технологии как инструментарий для перевода субстанций в другое состояние (из газа в твердое или обратно), для получения новых свойств материалов. Например, облучение фторполимера позволяет повысить устойчивость к износу. Мы сейчас говорим о радиолизе, начали делать первые шаги в этом направлении. Интересных направлений много.
– Можно ли в этом аспекте говорить о перспективах в ядерной медицине?
– Тут важен спрос. В России живет 140 млн человек. В мире – 7 млрд. В том числе по 1,5 млрд в Индии и Китае, в Европе – 600 млн, в США – 350 млн. Давайте посмотрим статистику Минздрава. Какая основная проблема у россиян в области медицины? Небольшая продолжительность жизни по сравнению с той же Америкой или Японией. То есть многие могут просто не дожить до возраста, попадающего в группу риска.
По статистике, одна из основных причин смерти в нашей стране – кардиология. Соответственно, решение этой проблемы является для государства приоритетом. Для начала надо довести до ума обычное медицинское обслуживание – вопросы гигиены, транспортную доступность, обеспечение качественной пищей и медикаментами. А для ядерной медицины все же Россия пока еще очень ограниченный рынок. И поэтому нам надо идти за рубеж, реализовывать там свои конкурентные преимущества. Тогда мы и Россию обеспечим за счет объема поставок на мировой рынок.
– Достаточно ли средств «Росатом» выделяет на исследовательскую работу по сравнению с конкурентами?
– Вопрос и простой, и сложный. Если говорить о процентах выручки и сравнивать себя с другими игроками, у нас пока статистика чуть-чуть хуже, чем, например, у Apple или IBM. Но лучше, чем у Areva или GE.
Мы выделяем на научные работы примерно 4,5 % общего оборота. Вышли на этот показатель в 2012 году. Раньше было 4 %. В ближайшие два года эта доля точно не сократится. А на длительную перспективу, если будет выполнен стратегический план по приросту общей выручки «Росатома» к 2030 году, то в сопоставимой доле объем инвестиций в науку достигнет 30 млрд долларов в год. Это большие деньги.
– Можно ли сказать, что в «Росатоме» сформирован научный дивизион?
– Он формируется. В научно-технологический комплекс входят 16 компаний. Это 15,5 тыс. специалистов, которые ведут исследовательскую, производственную, конструкторскую деятельность. Система управления выстроена ЗАО «Наука и инновации». Такая схема распространена во всем мире.
Следующий этап – выстраивание программ развития технологий внутри «Росатома» в целом и управление конкретными организациями. Мы пока негласно выделяем три основных направления развития блока. Во-первых, управление инновациями. Во-вторых, управление серийным производством (выпуск изотопов, отдельных видов оборудования) и инфраструктурой (институты, исследовательские реакторы, стенды). И наконец, R&D – это люди, которые зарабатывают деньги, предоставляя свои исследования и научные разработки. В такой логике мы будем разделять деятельность блока по управлению инновациями с 2014 года.
Показатели эффективности для блока обсуждаются в пропорции 30 – 30 – 30: от коммерческих заказов на внешнем для госкорпорации рынке 30 %, еще 30 % от внутригруппового оборота «Росатома» и 30 % за счет работ, выполняемых по государственному заказу. Остальные 10 % – это разнообразные контракты. Наша задача – довести долю внешних заказов до 50 %.
– Вы довольны работой ЗАО «НИИ»?
– Задачи, которые перед этой структурой стояли, выполнены за два года. Коллеги построили матричную систему управления отдельными направлениями деятельности. Нам теперь понятны бюджеты, планирование, контроль. Сейчас заканчивается настройка системы в части капитального строительства и IT.
На уровне первых заместителей гендиректора ЗАО «НИИ» сформированы три рабочие группы, каждая из которых определяет научно-техническую политику. Они не делят деньги, не делят заказы – они общаются и формируют научную идеологию.
Конечно, мы меняли руководителей в институтах, будем, может, и дальше проводить ротацию. Нам важно максимально выгодно использовать конкретные человеческие ресурсы и знания специалистов.
Разделение научной инфраструктуры и производства лишний раз помогает отсечь административный, технологический и производственный персонал от научной деятельности. Между ними будет организовано заключение лицензионных договоров. Наука должна отдавать в стартапы свои разработки. И уже есть несколько реальных примеров. В Обнинский филиал НИФХИ им. Карпова мы передали из ФЭИ производство генераторов технеция. Они платят роялти непосредственно ФЭИ, эти деньги идут на дальнейшие разработки. И этот принцип позволяет отделить науку от производства, разделить бюджеты, разделить рынки и в то же время организовать взаимодействие. Если твоя разработка нужна, коммерчески выгодна, то ты получишь доход в любом случае.
Юлия Гилева