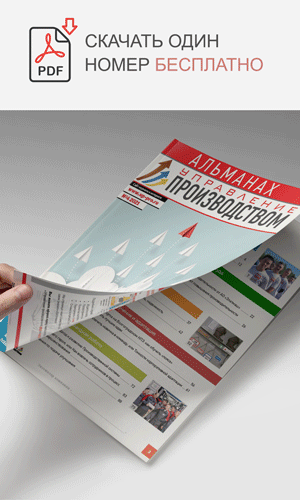Почему RCM — это пример наиболее совершенного подхода к предотвращению отказов, а бизнес-стратегия — компас надежника? Как влияет решение акционера «добить» или превратить «убитое» предприятие в «город-сад» на формирование стратегии обслуживания активов? Эти и не только вопросы поднимают независимый эксперт в области управления активами, ТОиР и надежностью Константин Зырянов, а также руководитель по развитию ремонтов в крупных металлургических и химических компаниях Максим Брусникин. Подробнее — в интервью с Романом Пилькиным, автором проекта «Практики ТОиР» и основателем компании «Деснол», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР.
Видеопроект «Практики ТОиР» организован компанией «Деснол», российским разработчиком и интегратором экосистемы 1С:ТОИР, в 2024 г. с целью формирования профессионального сообщества в сфере технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования. Осенью 2025 г. авторы проекта выпустили новое интервью, в фокусе которого оказался вопрос минимизации затрат и рисков с помощью программы технического обслуживания наиболее критичных активов. Героями нового выпуска стали независимые эксперты и практики в области управления активами, ТОиР и надежностью — Константин Зырянов и Максим Брусникин.
Роман Пилькин: Давайте начнем с теории, а именно с того, какой смысл мы вкладываем в понятие рискориентированная стратегия технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования.
Константин Зырянов: На мой взгляд, это набор периодически повторяемых действий по техническому обслуживанию и поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, осуществляемый с заданной периодичностью. Каждому из этих действий соответствует определенный вид отказа или риск, который может наступить, если оно не будет произведено.
Отличие стратегии ТОиР от программы ТОиР заключается в том, что к каждому действию привязывается риск. То есть каждое действие мы выполняем для того, чтобы не допустить того или иного нежелательного последствия. В одних случаях риски выше, в других — ниже, но связь действия и риска должна присутствовать.
Роман Пилькин: А что такое ремонтная программа для предприятия, и зачем ее нужно оптимизировать?
Максим Брусникин: Ремонтная программа и рискориентированная стратегия обслуживания в чем-то совпадают, но понятие стратегии я трактую чуть шире.
Давайте посмотрим на этот вопрос с позиции инвесторов, которые напрямую связывают объем инвестиций с количеством рисков и простоев. Их интересует, уменьшится ли вероятность негативных событий, если увеличить вложения. Соответственно, когда в годовом бюджете выделяются средства на ремонт, инвестор хочет быть уверен, что время простоя хотя бы не вырастет. Поэтому лично я понимаю под стратегией не только утвержденные регламентные мероприятия, которые реализуются с определенной периодичностью, но и выполнение нормативов по замене крупных узлов и ремонтам, которые мы будем делать по результатам регламентных проверок.
Например, мы знаем, что раз в пять лет нам нужно менять насос, и ежегодно проводим ревизию. Как только она показывает, что рабочее колесо изношено, мы начинаем планировать замену. Это тоже часть стратегии: формально мы меняем по отказу, но можем заложить эту замену в план, если понимаем, что следующий год — как раз будет пятым. Частью стратегии также являются те отказы, которые мы приняли, то есть не формируем для них регламентных мероприятий.
В свою очередь, ремонтная программа — это комплекс регламентных мероприятий, запланированный исходя из стратегии, плюс набор ожидаемых мероприятий, которые мы можем предсказать, плюс внеплановые работы, которые мы предсказать не можем.
Роман Пилькин: С чего начинается программа обслуживания? От чего мы должны отталкиваться — от оборудования, анализа рисков, наличия доступных ресурсов?
Константин Зырянов: Начнем с того, что если предприятие работает хотя бы год, то программа обслуживания в каком-то виде у него уже сформирована и реализуется. Вопрос только в том, на каком уровне зрелости она находится. Подход «сломалось — почини» — тоже вариант ремонтной программы.
Есть определенные вехи, которые нужно пройти, чтобы сформировать рискориентированную стратегию обслуживания. Как минимум, оборудование должно быть распределено по категориям критичности, чтобы не распылять усилия попусту. Но здесь важно соблюдать баланс: нельзя уделять внимание только высококритичному оборудованию, а все остальное обслуживать интуитивно. Необходима также задокументированная база хоть каких-то программ обслуживания, которые потом будут улучшаться.
Затем, на основании данных о критичности и проблемности оборудования, а также ориентируясь на принятые в компании алгоритмы его приоритизации, выбранными методами происходит последовательное улучшение программы обслуживания. Еще раз подчеркну, что единых подходов тут нет, но есть два опорных пункта. Во-первых, наличие базы. Во-вторых, оценка критичности.
Роман Пилькин: Получается, в первую очередь смотрим на самое значимое и на то, что чаще всего ломается?
Константин Зырянов: Алгоритмы могут быть разные, и они не обязательно должны включать в себя только критичное и/или только проблемное оборудование. Одна компания может концентрироваться на разгребании проблем, а другая — направлять усилия на их предотвращение. Если мы работаем только с наиболее проблемным оборудованием, то это позиция догоняющего.
Если мы не думаем о том, как сохранить работоспособность нового оборудования путем переработки или создания полноценной программы обслуживания, адаптированной к локальным условиям, то это тоже позиция догоняющего.
Роман Пилькин: Но ведь в этом случае объем работ может оказаться настолько большим, что любой энтузиазм иссякнет. Как съесть слона по частям?
Константин Зырянов: Алгоритм приоритизации должен давать возможность рационально использовать ограниченные ресурсы людей, задействованных в разработке и корректировке стратегии обслуживания.

Роман Пилькин, основатель Деснола
Роман Пилькин: Что важно учитывать при определении наиболее критичных активов или оборудования?
Максим Брусникин: Проблема в том, что ремонтникам всегда не хватает бизнес-стратегии. Они привыкли ориентироваться на деньги, но их объем напрямую зависит от стратегии, которой придерживается предприятие.
Бывают акционеры, которые строят завод, чтобы эксплуатировать его десять лет и потом пустить на металлолом, и тогда это одна стратегия обслуживания. Бывают акционеры, которые получили «убитый» актив, при этом у них нет денег на ремонт, и они просто стремятся всеми силами выжать максимальную надежность. Это совсем другая стратегия. А бывает, что акционеры не экономят на обновлении оборудования, и это уже третья стратегия. Поэтому начинать нужно с того, куда движется бизнес.
Исходя из этого, приоритетные активы — это наиболее узкие места, которые могут стать причиной потери производительности. Ну а модель того, что является риском, для каждой компании своя.
Про это, кстати, часто забывают. Бывают случаи, когда в каждом из цехов предприятия выделяют оборудование категории А и вокруг него строят стратегию, но при этом критически важным является только один из цехов, остальные вообще планируют в скором времени закрыть на реконструкцию. Поэтому универсальных подходов быть не может: все зависит от бизнес-стратегии предприятия и его специфики.
Роман Пилькин: Может ли уровень критичности оборудования со временем меняться?
Максим Брусникин: Уровень критичности может быть пересмотрен при изменении условий производственного процесса, и в моей практике такое было. Например, когда завершается проект, в реализации которого было задействовано оборудование, оно из суперкритичного, приносящего предприятию основную прибыль, вполне может перейти в разряд некритичного.
Константин Зырянов: Я бы добавил, что в процессе определения критичности должны быть предусмотрены триггеры, инициирующие эти действия, а также плановый пересмотр с какой-то периодичностью.
Роман Пилькин: Какой процент оборудования, имеющегося на предприятии, как правило, является критичным?
Константин Зырянов: Критичное оборудование — это все-таки малая доля, максимально влияющая на результат. В среднем, около 20% по принципу Парето.
Роман Пилькин: Какие типы стратегии обслуживания сейчас наиболее распространены?
Максим Брусникин: Есть простой подход, когда все оборудование распределяют по категориям А, В, С и D, и потом к оборудованию А и В применяют наиболее сложные стратегии, а категорию D обслуживают до отказа.
Но жизнь гораздо сложнее. В стратегиях для оборудования A и B могут быть проигнорированы некоторые некритичные отказы, а в стратегиях для категории D, наоборот, часть ревизий включена в регламент, если этого требует закон или есть риски тяжелых отказов. В последнем случае, например, такие ревизии проводятся редко.
Роман Пилькин: Тогда как мы определяем стратегию обслуживания конкретной единицы оборудования?
Константин Зырянов: На мой взгляд, критичность оборудования определяет метод, с помощью которого мы будем действовать. Если потенциальный отказ стоит десятки, а то и сотни миллионов рублей, и таких отказов на этой единице оборудования может быть много, то инвестиции в глубокий процесс разработки стратегии обслуживания мне кажутся логичными и обоснованными. А для оборудования, где цена ошибки ниже, и ресурсов на разработку программы его обслуживания можно тратить меньше.
Роман Пилькин: Как на практике связать бизнес-стратегию собственника предприятия с выбором стратегии обслуживания и принятием конкретных решений?
Максим Брусникин: Наши российские предприятия не существуют в безвоздушном пространстве, и по каждому оборудованию у технических специалистов в голове уже есть определенная стратегия. Поэтому первый шаг — перевести эту стратегию в цифровой формат или хотя бы на бумагу и сверить с теми затратами, которое несет предприятие.
Конечно, инженеры часто завышают стоимость своих желаний, поэтому надо постараться привести стратегию к тому, как мы сейчас обслуживаем оборудование, и уже потом заниматься ее оптимизацией. В моем представлении, надежник — это как раз и есть оптимизатор, внутреннее бережливое производство, встроенное в структуру ремонтной службы. А вот в какую сторону оптимизировать, как раз и зависит от бизнес-стратегии.
Роман Пилькин: Получается, бизнес-стратегия — это компас для надежника?
Константин Зырянов: Да, именно отсутствие целей является одной из главных причин провала проектов по оптимизации стратегий обслуживания. Анализ ради анализа не имеет смысла. Можно урезать расходы, понимая, что будет проседать готовность, а можно повышать готовность, понимая, что расходы вырастут, но затраты на ТОиР на единицу продукции сократятся. Все зависит от бизнес-целей.
Роман Пилькин: А что делать со стратегией обслуживания некритичного оборудования?
Константин Зырянов: Для начала, просто смотреть. Если динамика нравится, то концентрироваться на более важном, если не нравится, то разбираться в причинах и устранять недостатки.
Максим Брусникин: Для начала — не забыть, что это оборудование есть. Очень часто компания настолько глубоко погружается в обслуживание основного оборудования, что забывает про неосновное, и это начинает приносить болезненные и неприятные последствия.

Константин Зырянов, основатель издательства «Надежная книга»
Константин Зырянов: Соглашусь, что минимальная гигиена должна быть предусмотрена для любого оборудования, забыть и не смазывать — это не вариант. Также нужно помнить о том, что и критичное, и некритичное оборудование в цехе обслуживают одни и те же люди — одно и то же ремонтное подразделение, и объем производственных потерь безграничен, а ресурс бригады — конечен. Соответственно, если люди будут постоянно отвлекаться на мелкие, ничего не стоящие для производства ремонты некритичного оборудования, то им потом не хватит ресурса на поддержание нормальной работы основного оборудования.
Роман Пилькин: Как интегрировать управление жизненным циклом оборудования в программу ТОиР?
Максим Брусникин: Традиционно программа обновления оборудования находится в ведении не ремонтников, а инвестиционного подразделения. Дискуссия о том, где эта функция должна быть, бесконечна, и однозначного решения здесь нет.
Возьмем, к примеру, горнорудную отрасль. Самосвалы, занятые на производстве, очень быстро изнашиваются, но ремонтные службы могут прогнозировать этот износ, просто опираясь на свой опыт. Поэтому логично, чтобы функция управления жизненным циклом и оценки срока остаточной эксплуатации этой техники находилась у ремонтников. А вот в тяжелой промышленности, где завод построен десятки лет назад и потом несколько раз модернизировался, логично передать эти функции инвестиционному блоку. Особенно, если речь идет о крупных узлах, которые будут работать столько же, сколько и сам завод.
Роман Пилькин: Какие данные нам нужны для корректного прогнозирования рисков отказа конкретного оборудования?
Константин Зырянов: Есть два разных «риска». Есть риск, который рассматривается в рамках разработки программы обслуживания, то есть если мы не будем смазывать это оборудование, то вполне вероятно, что больше двух месяцев подшипник не проедет и наступят вот такие-то потери. Соответственно, это риск, который помогает нам сформировать программу регламентного обслуживания. Наша задача — идентифицировать эти риски, а для этого необходимы статистические данные и экспертный опыт специалистов.
И есть второй риск, уже реализующийся, когда у нас в подшипнике пошла вибрация и наши диагностические специалисты говорят нам на основании своего экспертного опыта, своих каких-то справочников и так далее, что больше четырех недель этот подшипник не протянет. Это знание исходит от применяемых методов диагностирования и контролируемых структурных и диагностических параметров оборудования.
Либо мы уходим в плоскость предиктива, когда есть набор параметров оборудования, процесса и среды, необычные комбинации которых или динамика определенных из них и говорят нам, что неисправность уже развивается либо созданы предпосылки для возникновения отказа.
Максим Брусникин: Один иностранный производитель ИТ-решений, сейчас ушедший из России, в последнее время очень активно продвигал идею унифицированного хранилища нормативов оборудования, в том числе рисков и вероятностей. У них это не очень получилось, потому что клиенты были не готовы делиться с рынком своими статистическими данными. Но идея сбора информации по типовым видам оборудования может быть жизнеспособной: такой статистики нам сейчас очень не хватает. Также важно еще собирать базу нормативов замен узлов, регламентных операций. Только отказы и вероятности — мало кому интересны.
Роман Пилькин: А как часто и в каких случаях нужно актуализировать стратегию?
Константин Зырянов: Во-первых, в случае радикального изменения производственной загрузки. Кстати, бизнес отреагирует на этот триггер и без надежника, и если ремонтная служба не пересмотрит стратегию, то за него это сделают финансисты. Кстати, не все понимают, что отсутствие пересмотра стратегии в корне рушит всю базу процессного управления. Поэтому необходимость пересмотра должна быть прописана в том же документе, который регламентирует сам процесс разработки стратегии.
Во-вторых, при изменениях конъюнктуры, из-за которых стратегия перестает быть адекватной. Сюда можно отнести, в частности, рост курса доллара или перекрытие каналов поставки материалов и запчастей. В-третьих, когда мы понимаем, что в стратегии просто есть ошибки. Например, какой-то отказ происходит слишком часто, или некритичное оборудование вдруг стало критичным.
Также у нас постепенно меняются практики ТОиР, внедряются новые инструменты и технологии, появляется возможность делать что-то лучше, быстрее или дешевле. Поэтому стратегию просто нужно периодически пересматривать на предмет ее актуальности. На мой взгляд, хорошей практикой может стать пересмотр стратегии в горизонте от трех до пяти лет.
Максим Брусникин: Дополню, что важно замерять долю отказов с причиной «стратегия не определена» или «стратегия ошибочно» и ориентироваться на этот показатель. В первые годы целесообразно проводить пересмотр ежегодно.
Роман Пилькин: А какие показатели, на ваш взгляд, свидетельствуют о том, что стратегия обслуживания конкретного оборудования работает эффективно?
Максим Брусникин: На чаше весов ремонтника одновременно находятся два показателя. С одной стороны, все затраты на ремонты. С другой стороны, все потери. Соответственно, эти две чаши всегда должны находиться в равновесии, поэтому нужно учиться измерять целиком и все затраты ремонтной службы, и все потери, которые несет предприятие из-за неисправности оборудования.
Константин Зырянов: Я бы добавил, что мы измеряем две вещи: то, как мы удовлетворяем и даже предвосхищаем потребности бизнеса, и то, какой ценой мы это делаем.
Хотите узнать, как повысить эффективность службы ТОиР и создать эффективную программу обслуживания активов? Запишитесь на бесплатный разбор вашей службы ТОиР по ссылке и получите 10 полезных материалов для технического директора в подарок.
Реклама ООО «Деснол Софт Проджект» ИНН 7709568068 ОГРН 1047796704878